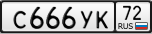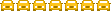Наблюдая за событиями прошедшего месяца, я в очередной раз хочу посетовать на отсутствие в России настоящей социологии.
Проблема в том, что по всем устоявшимся канонам стратегического планирования Российская Федерация – это страна т.н. «постгероического» типа, причем по всем признакам. В РФ небольшой процент молодежи и малое количество детей в семьях – такие общества считаются чрезвычайно уязвимыми для любых, даже самых незначительных военных потерь. В свое время, например, Израиль (считающийся сверхмилитаризованным государством) надломили совершенно смехотворные с военной точки зрения потери в Ливане – гибель чуть более сотни солдат вылилась во внутреполитический конфликт, напрямую повлиявший на армейские доктрины.
Из-за бурной реакции общества израильская армия стала избегать контактных боев, и, в целом, в последнее десятилетие ведет себя чрезвычайно пассивно.
Примерно таким образом постгероика выглядит на практике – и в России она формально тоже должна работать. Но не работает. Вообще.
Министерство обороны РФ официально заявило о потере 1351 солдата – по всем канонам жанра это должно было вызвать бурные протестные настроения, масштабные антивоенные акции, спровоцировать недоверие по отношению к правительству (именно такую реакцию мы могли наблюдать в США, Израиле, в свое время во Франции и т.д.). Но российское общество воспринимает такую информацию абсолютно спокойно – более того, оно выражает готовность даже к бóльшим жертвам.
Такой уровень стоицизма и принятия чрезвычайно необычен, тем более для постиндустриального общества, и, как я считаю, достоин полноценного социологического исследования. Моя личная гипотеза – это связано, во-первых, с высокой атомизацией российского социума (горизонтальные связи минимальны и семьи переживают горе от потери сына/мужа/отца в одиночестве). В обычное время это была его структурная слабость, в военное – неожиданное достоинство. Во-вторых, в России, как бы там ни было, высокий уровень смертности, особенно среди мужчин, которые часто умирают в более чем дееспособном возрасте. Это, по сути, привычная для общества картина. Мужской образ в России – образ во многом жертвенный, связанный с тяжелым изнашивающим организм трудом, который позволяет прокормить семью и дать ей шанс на лучшую жизнь.
С точки зрения военных аспектов это тоже положительное качество – выносливое общество, привыкшее к лишениям и трудностям, дает качественный человеческий материал для армии.
Словом, это чрезвычайно интересное и необычное сочетание факторов, которое ломает устоявшиеся стереотипы о «постгероике». Как показывает практика российских реалий, работают они далеко не везде – и эта ситуация однозначно требует более подробного и всестороннего изучения (в конечном итоге, государство, имеющее столь шикарный ресурс, должно понимать принцип его происхождения и уметь его правильно применять).
https://t.me/atomiccherry/419По сути верно.
Но, думаю, тут надо шире смотреть – в целом на место мужчины в российском обществе, особенно в его региональной части (а мы видим по сухим сводкам пленных и погибших, что это люди преимущественно из самых гиблых мест страны). Несколько тезисных соображений.
1)Начнём с зарплаты. 30-35 тыс. руб. считаются для мужчины уже очень хорошим доходом, такую работу в каком-нибудь райцентре надо ещё поискать. Потому так молодые мужчины легко соглашаются на контракт в армию на зарплату в 30-40 тыс. (плюс бесплатная еда, обмундирование, проезд, ряд льгот).
2)За смерть в операции Z сейчас стали давать 7 млн. руб. Сколько мужчине с зарплатой 30-35 тыс. руб. надо копить на такую сумму? Мужчина больше, чем женщины и дети, ест, а также часто курит и выпивает. Хорошо, если с его зарплаты удастся копить (тратить на общесемейные расходы) 10-15 тыс. в месяц. В год это 120-180 тыс. руб. Для накопления в 7 млн. руб. ему понадобится не менее 40-50 лет – больше, чем его трудовая жизнь (в гиблых местах мужчина в среднем живёт около 60 лет, сейчас после Ковида и с началом Порухи – скорее всего уже меньше).
Потому семьёй потеря кормильца при таких компенсациях не считается потерей. Считается даже выгодой.
А если вернётся живым и здоровым, то с добычей, что тоже неплохо.
3)Тем более что часто мужчина в гиблых местах, даже если и зарабатывает что-то, всё равно считается социальной обузой. В среднем по стране 84% преступлений совершают мужчины, в гиблых местах 90-92%. Очень много семейного насилия и вообще агрессии (в т.ч. и сексуального насилия над детьми – можно каждый день в новостях читать об этом).
Смерти в ДТП или на производстве. Высокий процент инвалидности среди мужчин. По Иркутской области видел данные, что до 50 лет в райцентрах и сёлах с инвалидностью может быть уже треть мужчин (отрезало пальцы или руки на лесопилке, обморожения, потеря слуха, лёгочные заболевания от работы с абразивными материалами и т.д.).
Потому потеря «проблемного» мужчины и в этом плане тоже не считается трагедией, особенно в среднем возрасте, когда он зачал детей и семья довела детей хотя бы до школьного возраста.
Неудивительно, что после возраста 40-45 лет мир в гиблых местах считается уже полностью женским. Почти всё там держится на женщинах.
4)В конце приходим к выводу о низкой ценности жизни в России, особенно мужской (потому компенсации за смерть и ранения выглядят теперь такими привлекательными). О невозможности мужчинам реализовать себя в гиблых местах. Лучшее, что он может сделать – уехать оттуда в Московскую, Питерскую и Причерноморскую агломерацию. Сотни тысяч человек так делают каждый год, но ещё больше – остаются в безысходности.
5)Наверное, всему миру интересно, как при постиндустриальном демографическом переходе, когда в той же России на женщину приходится 1,3-1,5 ребёнка, может существовать такое доиндустриальное отношение к собственной жизни, такая низкая оценка её значимости и стоимости. Выглядит как коллективное самоубийство в масштабах страны.
https://t.me/tolk_tolk/12008